Директор Института всеобщей истории РАН, профессор Михаил Липкин, недавно выпустивший новую монографию «Советский Союз и интеграционные процессы в Европе: середина 1940-х — конец 1960-х годов», в интервью EADaily провел серию примечательных параллелей между сегодняшними отношениями России и Евросоюза и событиями полувековой давности, когда СССР тоже приходилось действовать в условиях западных санкций. Хотя, по мнению Михаила Липкина, нынешняя ситуация принципиально отличается в том отношении, что для европейских политиков 1950—1970-х годов одним из важнейших факторов, который мотивировал их решения, был опыт Второй мировой войны. Нынешнее же поколение, символом которого можно считать недавно избранного президентом Франции Эммануэля Макрона, сформировалось в совершенно другой, куда более стерильной среде, и в этом отношении кризис, который сейчас переживает евроинтеграционный проект, дает хороший повод для осмысления его итогов.
Стала ли, на ваш взгляд, победа Эммануэля Макрона поражением евроскептиков? Как показал один из соцопросов перед выборами, 55 процентов французов считают, что ни Макрон, ни Марин Ле Пен ничего не изменят в их жизни к лучшему. Исходя из этого, не было ли голосование за Макрона просто голосованием против Ле Пен?
Конечно, голосование за Макрона во втором туре было в первую очередь протестным, по принципу: лишь бы не националисты. Макрон просто выступил символом преемственности прежнего курса руководства Франции, вокруг которого и сплотились все, кто за него голосовал. Говорить о полноценной программе Макрона явно не приходится: фактически она копировала программу Франсуа Фийона, к тому же сам Макрон как кандидат появился в последний момент. Так что это был выбор не между Европой и не-Европой, а между большим и меньшим злом, и теперь, почти по единодушному мнению политологов, важен результат парламентских выборов, которые покажут, с кем дальше будет работать Макрон, не имевший своей партии. Там и будет более конкретно решаться вопрос: Франция за евроинтеграцию или против?
Каковы перспективы Frexit после того, как Марин Ле Пен не смогла выиграть второй тур выборов?
Конечно, эту идею будут эксплуатировать различные оппозиционные силы, прежде всего националисты, но не думаю, что она приведет к каким-то реальным последствиям. Выхода Франции из Евросоюза, как это произошло с Великобританией, в среднесрочной перспективе не будет — если, конечно, не случится никаких чрезвычайных событий, предсказать которые сложно.
Есть ли еще сейчас в Евросоюзе какие-то слабые звенья, которые могут в ближайшем будущем заявить о планах выхода?
Пока их незаметно — даже Греция сейчас притихла и пошла на все уступки кредиторам. Да, можно говорить о том, что в Евросоюзе немало стран с проблемными экономиками — те же Италия и Испания, но из-за этого выходить из ЕС никто не спешит: экономики Евросоюза слишком плотно привязаны друг к другу.
Как вы оцениваете глубину кризиса евроинтеграционного проекта в ретроспективе? Были ли еще в его истории эпизоды, когда он находился перед перспективой реального распада?
Такая ситуация, когда один из членов ЕС выходит из него, действительно сложилась впервые. Но были и другие серьезные кризисы и разногласия. Например, можно вспомнить середину 1960-х годов, когда Франция бойкотировала принятие многих решений в Европейском сообществе по принципу «пустого стула», отстаивая свои национальные интересы, связанные прежде всего с единой сельскохозяйственной политикой. Тем не менее, связка Франция — Германия, которая стала мотором послевоенной интеграции, продолжала и продолжает действовать. Собственно, именно эту связку и олицетворяет Макрон, декларируя преемственность политики евроинтеграции. Пока ничего другого в Евросоюзе не придумано, хотя сейчас, конечно, этот проект переживает далеко не такой триумфальный период, как это было в момент вступления в ЕС восточноевропейских стран, что во многом и привело к нынешнему кризису.
Какие факторы, на ваш взгляд, стали решающими на пути к Brexit и дальнейшим дезинтеграционным процессам?
В какой-то момент Британию в рамках ЕС стали сильно зажимать в сравнении с тем, на что она рассчитывала, вступая в ЕС, и теми бонусами, которые она получала на протяжении 70−80-х годов, в том числе через фонды помощи малоразвитым территориям. Но затем Британия потеряла право вето на принятие решений Брюсселем и стала зависеть от тандема Франции и Германии. Поэтому, как только Британия поняла, что ее задвигают на второй план, она стала предпринимать попытки восстановить свои позиции. Конечно, кабинет Кэмерона представил все аргументы, которые показывали, что Британии выгоднее остаться, а потери в долгосрочном плане будут больше, но в последний момент потерял контроль над референдумом. В условиях прямой демократии — референдума — оказалось, что все гениальные экономические выкладки не работают, потому что сыграл свою роль гуманитарный фактор — то, как преподносился вопрос о национальной идентичности. Все-таки для ее жителей Британия — это царица морей и бывшая империя, которая не желает жить по правилам, навязанным ей извне. Это и определило исход референдума, где неожиданным образом для всех народ проголосовал против.
Тем не менее, мы видим, как сложно может происходить «имплементация» многих судьбоносных решений на международном уровне. Как долго, на ваш взгляд, может продлиться процесс выхода Великобритании из ЕС?
Конечно, есть разные варианты того, как Британия может остаться в Евросоюзе — например, в форме ассоциированного члена или в рамках давно забытой Европейской ассоциации свободной торговли. Но все же ситуация зашла уже слишком далеко, и вопрос заключается лишь в том, как будет обставлен выход. Понятно, что никакого непроницаемого барьера между Лондоном и Брюсселем не появится, но процесс «развода» уже идет и выглядит малообратимым.
В какой мере за годы участия в Евросоюзе претерпел изменение традиционный геополитический принцип Британии: иметь на континенте надежного союзника и не допускать сильных стратегических альянсов?
Эта модель работала, пока Британия получала определенные дивиденды от расширения Евросоюза, когда в числе ее союзников оказались Польша и другие страны Восточной Европы. До какого-то момента это позволяло забалтывать вопрос об углублении евроинтеграции, делегировании части национальных полномочий Брюсселю для проведения скоординированной внешней политики ЕС. При этом, со своей стороны, Брюссель сделал многое, чтобы продвигать британцев в евроструктуры, что вызывало недовольство других стран, поскольку британцами буквально нашпиговывали органы ЕС. Теперь, когда ЕС перестал расширяться дальше на восток и столкнулся с различными кризисами, встал вопрос о выборе некоей новой модели присутствия Великобритании в Европе и отстаивания своих интересов. Какой будет эта модель, пока сказать сложно, но ясно, что Великобритания не будет пешкой: это страна с глобальными интересами, и она будет придумывать новую конфигурацию под себя.
Насколько прочна сейчас главная «ось» Евросоюза: Франция — Германия?
Франция, конечно, тоже недовольна тем, что на протяжении последних пяти лет ее экономика растет все медленнее и медленнее, а экономическим локомотивом ЕС все больше является Германия. Хотя многие прежние преимущества от евроинтеграции Франция продолжает пожинать — например, общая сельскохозяйственная политика или Европейский совет, который еще в 1960-е годы Франция выстроила под себя. Так что пока этот тандем действует, и во второй половине ХХ века он успешно разрешил исторический франко-германский конфликт, хотя еще накануне образования Европейского союза угля и стали в 1951 году была вероятность очередного вооруженного конфликта между этими странами из-за доступа к угольным ресурсам Саара и Рурского бассейна. Но затем модель тандема оказалась эффективной, хотя в конце 1980-х объединение Германии ошарашило и французов, и британцев тем, как быстро все произошло, потому что появление столь мощной Германии их, конечно, не устраивало.
Глядя на ряд французских лидеров от де Голля до Макрона, можно констатировать, что они наследуют друг другу по принципу ухудшающего отбора. В чем вы видите причины этого? Или же не стоит так акцентировать роль личности в истории в данном случае?
Такая ситуация не только во Франции — в других странах ЕС тоже все меньше харизматичных лидеров, какими были, к примеру, де Голль и Аденауэр. Скорее всего, это связано со сменой поколений элиты. У тех политиков, которые активно действовали в пятидесятые, шестидесятые был другой бэкграунд: они больше апеллировали к опыту Второй мировой войны и тем ценностным вещам, которые теперь нужно отдельно объяснять условно говоря, «молодежи» из поколения Макрона. Для них не столь очевидно, ради чего был затеян весь этот европейский проект, хотя для людей, которые помнили опыт Второй мировой, это как раз объяснять не требовалось: они были готовы жертвовать суверенитетом своих стран ради мира, лишь бы не было третьей мировой войны. Возможно, для следующего поколения европейских политиков окажется ценным как раз опыт кризиса европейского проекта. Сейчас многое зависит от того, кто займет место британцев в структурах управления ЕС — выходцы из стран Восточной Европы или из «старых» стран ЕС. В любом случае лицо евробюрократии после Brexit сильно изменится.
В своей книге вы подробно рассматриваете историю отношений СССР и Европейского сообщества, отмечая, что в советском руководстве всегда были различные группы влияния, которые порой придерживались полярных мнений относительно тех или иных шагов в отношениях с Европой. Продолжается ли эта традиция после начала «санкционной войны» с ЕС, или же в российской элите сейчас есть некий консенсус по поводу того, что Россия не должна делать первый шаг в отмене санкций?
Безусловно, сейчас тоже присутствуют разные группы интересов — есть сторонники разумных уступок, а есть те, кто считают компромиссы слабостью и выступают за методы силовой дипломатии. Но следует учитывать, что, в отличие от ситуации 60−70-х годов, Евросоюз — наш крупнейший торговый партнер и наш ближайший сосед, который уже никуда от нас не денется. Вечно ссориться нельзя, поэтому вопрос заключается в том, на каких условиях, когда и как можно улучшить нынешнее положение дел. И здесь можно вспомнить, что и при Брежневе, и при Хрущеве, и даже при Сталине выработка каких-то решений относительно западноевропейской интеграции никогда не происходила по принципу: вождь сказал — все пошли и сделали. Всегда был процесс согласования и обсуждения разных инициатив. А сейчас у нас гораздо более демократичные структуры управления, больше конкурирующих «мозговых трестов», которые готовят правительству различные стратегии.
Но есть и одно отличие. В сравнении с временами Холодной войны ситуация стала гораздо более непредсказуемой — тогда все-таки были понимаемые всеми правила игры, которые соблюдались. Сейчас же мы видим полную анархию в сфере СМИ — любой блогер может публиковать все что угодно, и затем какое-нибудь небольшое происшествие может быть раздуто до чрезвычайности и непредсказуемо подействовать на позитивные сдвиги во внешней политике целых стран. В условиях Холодной войны подготовка разрядки была во многом результатом работы прямых каналов информации, доверительных телефонных линий, неформальных контактов. Это позволяло готовить встречи на высшем уровне и создавать тот климат доверия, который потом позволял подписывать решающие документы — например, по сокращению стратегических вооружений. Парадокс сегодняшней ситуации в том, что сколь ни становятся совершеннее механизмы передачи информации, сейчас этого климата нет — политикам и дипломатам гораздо сложнее договориться и понять друг друга.
Можно еще вспомнить о том, что Холодная война была столкновением двух «всепобеждающих учений», а сейчас, по большому счету, и Россия, и Европа исповедуют одну идеологию неолиберализма. Это обстоятельство вносит свои коррективы в диалог?
Да, хотя, как показывала практика тех лет, как только речь заходила о принятии в соцлагере каких-то элементов интеграции и получения выгод от равноправных отношений с Западом, тут же находились нужные цитаты у классиков марксизма-ленинизма — вспомним статью Ленина «Соединенные Штаты Европы». Кроме того, существовала практика жестких официальных заявлений и уважительного закулисного общения в совершенно других тонах — все понимали, что есть правила игры для внешнего и внутреннего круга.
На какую аудиторию сейчас рассчитаны регулярные демонстрации Россией европейских «друзей Крыма» или сторонников снятия санкций?
Такой подход работал и в советский период, когда тоже действовали санкции, только они вводились через структуры КОКОМа — Комитета по экспортному контролю при НАТО, который ограничивал перемещение технологий в страны Восточного блока. Тем не менее, тут же находились фирмы или отдельные бизнесмены, которые готовы были их обходить. Поэтому официальная статистика советской торговли отражает в лучшем случае две трети того, что было на самом деле. Были тогда и запреты на долгосрочные кредиты, но так или иначе в них пробивались бреши.
Например, в 1960 году Энрико Маттеи, президент итальянской компании «Эни» подписал на пять лет соглашение с СССР о торговле сырой нефтью в обмен на трубы, открыв «окно в Россию». И уже через шесть лет «Фиат» выиграл тендер на завод «АвтоВАЗа», хотя с технической точки зрения больше шансов тогда было у «Рено». Но это была некая дань тому, что итальянцы первыми пробили путь на советский рынок, хотя с «Рено» мы сотрудничаем сейчас, так что историческая справедливость, можно сказать, восторжествовала. Потом пришли обиженные англичане, которых де Голль не пустил в западноевропейский Общий рынок, и дали нам первый долгосрочный кредит на срок больше пяти лет. За ними последовали другие страны НАТО. Ну, а в 70-е годы началось сотрудничество с ФРГ, причем произошло это под прямым влиянием фактора китайской угрозы. Столкновения на острове Даманском в 1969 году полностью перевернули все представления о внешней политике Советского Союза: перед лицом угрозы войны на два фронта было принято решение срочно сближаться с Западом, после чего и произошло замирение с ФРГ, подписание долгосрочных газовых контрактов с Европой. Предполагалось, что сеть газопроводов должна дать СССР, помимо экономических выгод, гарантии безопасности со стороны европейских членов НАТО, заинтересованных в стабильном и мирном развитии своих экономик. Тут взаимный экономический интерес наложился на ту благодатную почву, которую СССР готовил еще с середины 1960-х — это видно по количеству растущих контактов, совещаний, научно-технических делегаций.
Так что если заняться «ретропрогнозированием», то в нынешней ситуации идеологических барьеров нет, и в этих условиях экономический интерес взаимный и объективный, отношения рыночные, всем понятно, что искусственное сдерживание экономик «сверху» попросту скоро приведет к потере западными лидерами контроля над множащимися контактами «снизу», как в ситуации 1960-х годов. Объективные процессы взаимодействия двух частей Европы нельзя заморозить надолго. Вопрос лишь в том, кто станет первым на этот раз.
Можно ли предположить, что таким же образом, как в советский период, будет готовиться и отмена нынешних санкций?
Да, думаю, нечто подобное будет и сейчас. Другое дело, что пока нет и не предвидится крупных знаковых проектов с Европой — там, где требуется обязательная господдержка. Кроме того, следует помнить об опыте упущенных возможностей, которыми изобилует советский период нашей истории — очень многие здоровые инициативы срывались из-за банального недопонимания. К примеру, при Хрущеве СССР был готов совершить поворот на 180 градусов — например, вступить в НАТО в 1954 году, развивать советскую экономику через интеграцию в ОЭСР в 1960 году. Но на Западе просто не верили, что такое может быть. В итоге в 70-х годах на волне высоких цен на нефть пришлось набирать западные кредиты, которые затем оказалось крайне сложно обслуживать, когда цены на нефть упали.
Но были и примеры, когда благоприятными возможностями не воспользовался сам СССР. В 1960 году президент Финляндии Урхо Кекконен предложил ввести свободную торговлю между Финляндией и СССР: почему не поняли выгоду этого — непонятно, это была уникальная возможность интеграции социалистической и капиталистической экономик. В 1965 году СССР не вступил в Азиатский банк развития, постеснявшись войны во Вьетнаме и критики со стороны Китая. Хотя уже тогда не хватало финансов для развития Дальнего Востока, а японцы были готовы в этом участвовать. В 60-е годы Япония после того, как СССР поссорился с ФРГ в 1962 году из-за сорванной сделки на поставку крупной партии труб, вообще вышла на первое место во внешнеторговом обороте Советского Союза с капстранами. Но развитию отношений не хватало мощности транспортных веток на Дальний Восток, другой инфраструктуры — вся советская логистика была повернута на Запад. В результате крупных проектов с японцами, сопоставимых с западноевропейскими, не появилось.
Удалось ли вам в процессе работы над последней книгой сделать какие-то открытия в истории отношений СССР и ЕС?
Конечно, и таких открытий будет еще больше, потому что пока доступны только документы за 60-е годы, а более поздние еще не открыты. Например, удалось обнаружить новые подробности об участии СССР в разработке Бреттон-Вудских соглашений, которые мы практически подписали, но не ратифицировали у себя. На самом деле там были выторгованы прекрасные условия для СССР, которые могли трансформировать победу во Второй мировой войне в финансово-экономическую мощь Советского Союза.
Еще один малоизвестный эпизод — состоявшееся в апреле 1952 года Московское международное экономическое совещание, которое был попыткой пригласить в СССР европейские бизнес-ассоциации и выстроить с ними отношения по принципу business as usual. После этого было создано много лоббистских структур в странах, которые помогали разрядке и развитию сотрудничества между СССР и другими государствами в последующие десятилетия. Хотя это был еще сталинский период, даже здесь еще масса загадок.
Мы как-то забыли и о том, сколько средств и ресурсов было вложено в Китай. За десять лет существования Договора о дружбе (1950−1960 годы) СССР только официально оказал помощи КНР где-то на полтора миллиарда долларов, а на самом деле гораздо больше, что вполне сопоставимо с помощью странам Европы по «плану Маршалла». Причем это были ресурсы, которые не доходили до советских граждан, и за счет этого Китай совершил колоссальный прорыв, став индустриальной державой из страны с разрушенной аграрной экономикой после войны. Думаю, сейчас об этом стоит напомнить китайцам. Была и крайне интересная история с попыткой введения «социалистического Шенгена» от Северной Кореи до ГДР со свободным перемещением рабочей силы и студентов — но дальше типового документа Политбюро дело не пошло.
Какие выводы из истории отношений СССР и ЕС стоит сделать для развития проекта евразийской интеграции?
Главное — интеграция должна идти не только сверху, но и снизу. Это была главная проблема СЭВ и СНГ, но именно это и было основой западноевропейской интеграции, которая предполагала подключение сети самых разных организаций, веривших в этот проект — от элитарных экономических ассоциаций до школьников и студентов. Этого сейчас и не хватает евразийской интеграции. Интеграция не должна быть из-под палки, особенно когда есть потенциал и желание уйти от ошибок прошлого — надо просто это грамотно и деликатно развивать.
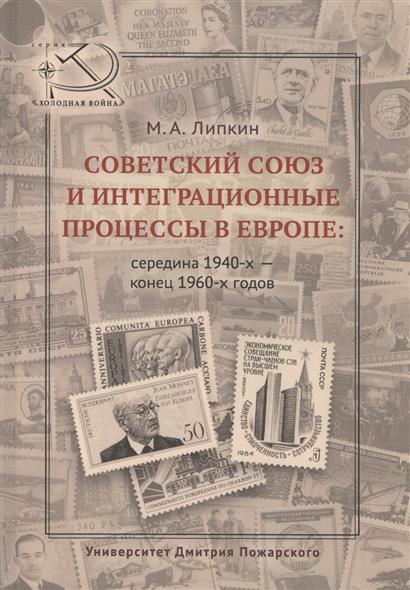

 В Татарстане в массовом ДТП погибли четыре человека
В Татарстане в массовом ДТП погибли четыре человека Две трети жителей Чехии экономят и планируют сократить свои расходы
Две трети жителей Чехии экономят и планируют сократить свои расходы Украина может смириться с потерей де-факто пятой части своих территорий — NYP
Украина может смириться с потерей де-факто пятой части своих территорий — NYP В Москве скончался Зураб Церетели
В Москве скончался Зураб Церетели Последний курс юаня к мировым валютам по состоянию на 22 апреля
Последний курс юаня к мировым валютам по состоянию на 22 апреля За вечер и ночь силы ПВО сбили 10 вражеских БПЛА в трех регионах России — Минобороны
За вечер и ночь силы ПВО сбили 10 вражеских БПЛА в трех регионах России — Минобороны